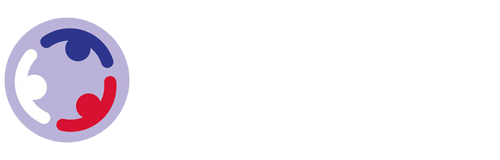«Следователи настроены скептически»: юристы комментируют идею чаще отпускать под залог
Институт залога в России — эффективная мера для всех или привилегия богатых? В принципах равенства перед законом разбирался Матвей Гончаров.
На совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, речь зашла о том, чтобы как можно чаще в целях гуманизации правосудия выпускать подозреваемых россиян под залог. О проработке такого механизма рассказала председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. «МК» выяснил, с какими препятствиями могут столкнуться служители Фемиды при реализации этой, безусловно, важной инициативы.
Судебная статистика показывает, что в России доля залогов среди всех мер пресечения год от года сокращается и составляет в среднем менее 0,2%. Это меньше, чем где бы то ни было в цивилизованном мире. Несмотря на то, что сам институт залога был известен еще во времена Древнего Рима и до сих пор остается одним из самых популярных на планете.
В Великобритании даже существует презумпция освобождения обвиняемых под залог — судьи обязаны обосновать, почему подсудимый должен в обязательном порядке оставаться под стражей, иначе им придется применять залог.
В уголовно-процессуальное законодательство Российской империи залог был введен в 1864 году и тогда считался второй по строгости мерой после заключения под стражу. Он мог заключаться в деньгах или в движимом имуществе и быть представлен как самим обвиняемым, так и «всяким другим лицом». Точная сумма залога законом не обговаривалась.
В наше время данная мера пресечения прописана в ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Залог». Она предполагает внесение денег, ценностей, акций и облигаций, чтобы обеспечить явку подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд. Вид и размер залога зависят от характера преступления, данных о личности и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога должен быть не менее 50 тыс. рублей, а по тяжким и особо тяжким — не менее 500 тыс. рублей. Верхний порог не закреплен.
Если обязательства по залогу нарушены, то вся поступившая сумма обращается в доход государства по судебному решению. В остальных случаях суд решает вопрос о возвращении залога лицу, его заплатившему. При прекращении уголовного дела следователем или дознавателем залог также возвращается.
По данным СМИ, одним из самых больших в России залог в 55 млн рублей был внесен 28 октября 2011 года в Останкинский суд Москвы за бывшего первого заместителя гендиректора Третьяковской галереи Олега Беликова. В 2013 году он был осужден на пять лет за мошенничество в особо крупном размере.
В США залог считается сегодня одной из самых популярных мер пресечения. Чаще всего его используют вместе с домашним арестом, ограничениями определенных действий, поручительством и т.д.
Восьмая поправка к Конституции США гласит, что сумма залога не может быть неразумной и чрезмерной. Однако на практике назначаемый размер залога весьма высок, и его могут позволить себе только обеспеченные граждане.
Долгое время рекордсменом по сумме залога в США стал Радж Раджаратнам, менеджер группы Galleon и управляющий хеджевым фондом, арестованный по обвинению в использовании инсайдерской информации — судья назначил ему залог в 100 миллионов долларов.
Отпустить под залог многодетную мать, блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в миллиардной неуплате налогов, просили в прошлом году и в СПЧ, аргументируя это тем, что если она нарушит условия залога, то деньги уйдут в бюджет. Однако суд на это послабление пошел.
Обычно стороны защиты стараются не предлагать российским судам подобную альтернативу, ограничиваясь просьбой об избрании домашнего ареста, – но тоже без особенного успеха (на один домашний арест, как известно, приходится 15 заключений под стражу).
Считается, что в США залог является эффективной мерой пресечения, поскольку страх потерять большую сумму денег обычно сильнее, чем опасность содержания под стражей. В России наоборот — свобода оценивается выше денег, и поэтому те, кто заработал большое количество средств не самым праведным путем, скорее, предпочтут потерять их и удариться в бега, обратив сумму залога в доход государства.
«Мне кажется, о необходимости более активного применения данной меры пресечения говорят не первый год и далеко не первый раз. Несмотря на то, что залог как обеспечительная мера прописан был ещё в досоветское время, сейчас это одна из самых мёртвых норм УПК, — высказывает свое мнение Матвей Гончаров, эксперт Фонда поддержки пострадавших от преступлений. — В пересчёте на количество использования залога — это всего несколько десятков случаев за последние годы. Возможных причин того, что залог используется столь неохотно, я вижу несколько:
Первая — высокие низкие пороги залога и низкая платежеспособность населения.
Вторая — сугубо скептическое отношение следствия к этой мере, которую можно объяснить недостаточной определённостью самого института залога, проще говоря, залог считают недостаточно эффективной мерой для предотвращения побега. По мнению следствия, всегда удобнее, когда подозреваемый находится под боком.
Залог в России зачастую воспринимается как «плата за свободу», которая доступна только обеспеченным лицам, что, по моему мнению, противоречит принципу равенства перед законом», — констатирует Матвей Гончаров.
Екатерина Сажнева. МК.RU.