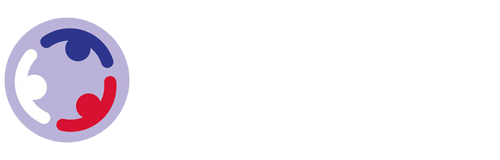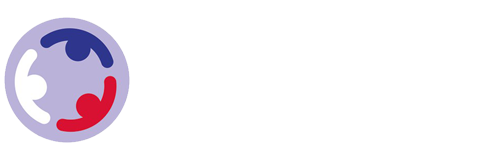- 22.03.2012
«Произвол сохраняется из-за безнаказанности»

21 марта Приволжский райсуд Казани изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу бывшему участковому скандально известного отдела полиции «Дальний» Ильшату Гарифуллину. Пятого фигуранта дела об изнасиловании 52-летнего Сергея Назарова уже перевели в СИЗО. По версии следствия, в истязании подозреваемого он не участвовал, его роль состояла в незаконном задержании. Тем временем на открытую правозащитниками пару дней назад «горячую линию» о насилии в полиции, по данным на вчерашний день, обратились уже 43 человека. Правозащитник Валерий Борщев разъяснил, какие нарушения прав характерны для каких изоляторов, чей опыт организации работы мест заключения наиболее полезен для России, почему у нас до сих пор жив стереотип, что условия в тюрьмах должны быть жуткими.
– Валерий Васильевич, как работа правозащитников влияет на случаи произвола в разного рода изоляторах и местах лишения свободы?
– Когда была создана общественная наблюдательная комиссия, конечно, ситуация начала меняться. По крайней мере, теперь случаи произвола рано или поздно выплывают наружу. Раньше это было скрыто под спудом и информация либо доставалась дорогой ценой, либо поздно – сообщали те, кто освободился. Сейчас мы это узнаем достаточно быстро. Например, в августе было сообщение о бунте в Бутырке: заключенные жгли матрасы. Той же ночью мы туда выехали. Бунта как такового не было, просто одного вора в законе сажали в карцер. Членов ОНК пустили, и возможность репрессий была снижена.
– Произвола меньше стало?
– Произвол сохраняется из-за безнаказанности. В наших тюрьмах садистов не больше чем 10%. Вопрос в том, что где-то этим людям потворствуют.
– Несмотря на то, что ОНК имеет туда доступ и об этих происшествиях знает?
– А все зависит от действий прокуратуры. В 2005 году в Льговской колонии был бунт. Там взрезали себе вены человек 700. Они отказывались разговаривать с прокурорскими, с сотрудниками ФСИН, они разговаривали только с нами. Мы взяли 150 жалоб в связи с угрозой сексуального насилия. Далеко не каждый мужчина, тем более зэк, признается в том, что его изнасиловали или пытались изнасиловать. И вот нам это удалось. Эти жалобы я лично в руки передал заместителю генпрокурора Фридинскому. И что вы думаете? Ничего не было сделано. Кстати, на наш отчет по Магнитскому не ответили ни Минюст, ни Генпрокуратура. Мне потребовалось заместителю генпрокурора сказать, и только тогда отчет приобщили к делу.
– Как правоохранительные органы относятся к работе ОНК?
– Они всячески давят. Если ФСИН как-то приноровился к участию правозащитников, то МВД от нас в шоке. Как мне рассказывали, было указание – мол, в ОНК вошло много правозащитников и в новом составе этого не надо допустить. И в нашей московской комиссии появилась антиправозащитная группа, включили массу людей, которые практически не работают. На региональном уровне есть серьезное противостояние, даже травля. Например, в Коми выжали одного члена из комиссии – Эрнеста Мезака. Его обвинили в том, что он достал фотоаппарат и снимал в тюрьме. Суд доказал, что он прав, но членом ОНК он быть перестал. С ОНК борются, конечно, потому, что видят в ОНК силу. Значит, наши меры действенны. Но, с другой стороны, от этого не легче. Хотя на наших недавних общественных слушаниях под эгидой Лукина (уполномоченного по правам человека в РФ. – «НИ») присутствовали и руководители управления ФСИН, и представители МВД, и Генпрокуратуры.
– Какие-то плоды этого диалога ощущаются?
– Конечно. Например, после смерти Магнитского мы выбрали приоритетное направление – тюремная медицина. Стали просить, чтобы в СИЗО нам давали списки людей в тяжелом состоянии, и стали договариваться насчет них с судами, со следствием. Добились принятия 3-го постановления правительства: раньше было 54-е постановление, по которому осужденных при наличии определенных очень тяжелых болезней могли освободить, а вот для подследственных не было такого документа. Постановление нас не устраивает, его надо расширять, оно практически калька с 54-го, но оно работает. Уже за прошлый год резко снизилась смертность. Если в 2010 году был 61 умерший в московских СИЗО, то в 2011-м – 42. При этом в 2010-м было выше, чем в 2009-м…
– С какими нарушениями прав чаще всего сталкиваются заключенные?
– В СИЗО им, прежде всего, без основания продляют сроки. В зонах, конечно, проблем больше. Есть такое понятие – «злостный нарушитель». С одной стороны, Уголовно-исполнительный кодекс дает перечень злостных нарушений. Это буйство, хулиганство и так далее. А вторая часть той же статьи говорит о том, что, если осужденный совершит повторно обычное нарушение внутреннего распорядка (не застегнет верхнюю пуговицу рубашки, сделает летом пилотку из газеты), он считается злостным нарушителем. В итоге законодательство дает основание практически любого человека сделать злостным нарушителем при желании. А что такое злостное нарушение? Это ограничение свиданий, посылок, невозможность получить УДО. Вот эта незащищенность зэка и произвол оказываются законодательно закреплены.
– За последние годы Европейский суд по правам человека принял около 90 жалоб россиян на содержание в изоляторах. Наши колонии и СИЗО отвечают европейским стандартам?
– Россия признала нормы европейских пенитенциарных правил и по каким-то параметрам их соблюдает. Но нам сделали поблажку: например, если в Европе норма в следственном изоляторе семь метров на человека, то в России – четыре, потому что количество мест в СИЗО не соответствует количеству заключенных. Чтобы обеспечить новые площади, нужно строить новые изоляторы. В то же время и старые нужно закрывать – ту же самую «Бутырку». Я за последние 20 лет много видел финансовых вливаний, ремонтов, перестроек, но она отнюдь не стала европейским изолятором. Хотя, конечно, в камерах уже не по 120 человек держат, как в 90-е.
– В колониях такая же ситуация?
– У нас система в колониях барачная, там в одной комнате человек 60-80. Это наследие ГУЛАГа. Есть дискуссии о переводе на камерную систему, как в Европе. Я эту идею поддерживаю. В Европе организованы такие локальные зоны, которые объединяют 8-10 камер. Камеры целый день открыты, и заключенные гуляют, общаются. По концепции ФСИН, камеры будут закрытыми. Это неправильно. Закрытая камера, особенно одиночная, – это, в сущности, пыточный вариант.
– То есть вмешательство Страсбурга и правозащитников все-таки позволяет эти проблемы обсуждать и решать?
– После случая с Магнитским мы дали отчет о том, что в камере, где он содержался, неприемлемые условия. И во ФСИН согласились. Сейчас эти восемь камер разрушены, я сам следил за их перестройкой. На их месте одноместные карцеры, и если раньше были камеры на четырех человек, где шконки буквально подходили к так называемой чаше Генуя (отхожее место. – «НИ»), то сейчас это, конечно, все перестроено. Но все равно необходимо строить новые следственные изоляторы. Нынешние невозможно довести, на мой взгляд, до европейских норм.
– Нужно ли стремиться к идеалу тюрьмы скандинавского типа, похожей на санаторий?
– Нет, скандинавская система от нас далека. Это другое общество: маленькие страны, качественно иные отношения между сотрудниками и заключенными. Это все для нас рановато. Другая крайность – очень тяжелая американская система, где много одиночных камер, которые к тому же открыты для обзора, там вместо стен – решетки. То есть человек справляет нужду, и все должны это лицезреть. Для нас реальны чуть более жесткие, чем скандинавская, системы – английская или немецкая. Кстати, закон об общественном контроле, который я провел, готовился на базе Англии. У них так называемые советы визитеров уже сто лет существуют.
– Откуда вообще взялся стереотип, что условия в тюрьме должны быть жуткими?
– У нас это действительно парадоксальная ситуация. Например, человек, которого сажают в следственный изолятор по определению невиновен. Почему его сажают в такие тяжелые условия? В Америке, где, как было сказано, система жесткая, кстати, подследственных гораздо меньше. Там они до суда обычно остаются на свободе.
– Почему тогда у нас СИЗО переполнены?
– Это другая сторона вопроса. У нас огромное количество людей абсолютно неправомерно сажают в СИЗО. УПК дает только две причины посадить: если подследственный может скрыться и если он может оказать влияние на ход следствия. В остальных случаях – подписка о невыезде, залог, поручительство. И этого достаточно. Однако у нас действия следователя не регламентированы. В Европе и США не может следователь просто так ходить и распоряжаться. Прежде чем прийти, он свой приход обосновывает. У нас же все подчинено его интересу.
– А какой у него интерес?
– Интерес простой: сажать как можно больше, чтобы в условиях СИЗО человек сломался, стал сговорчивым и признал вину. Хотя в конце 90-х у нас произошла реформа (пенитенциарная система была передана Минюсту), но главенство следователя, которое ни в каких документах не записано, в СИЗО все равно сохранилось. Вот возьмите группу Pussy Riot. Да, дурно поступили. Но это же дико – давать такую меру пресечения (арест. – «НИ»). Они что, запугают подельников? Они что, сбегут? У них дети, куда они сбегут. Строить дополнительные СИЗО долго и дорого, проще дать по рукам следствию, чтобы они прекратили произвол, и судам, чтобы перестали мгновенно удовлетворять требования следователя посадить. Следователь ведь по-прежнему является главной фигурой и для судов тоже.
– Почему судебная система этих проблем решить не может?
– В отдельных случаях – может. Когда ОНК написала отчет по Магнитскому, министр юстиции признал, что не было полномочий у следователя Олега Сильченко переводить его из одного СИЗО в другой. Вопрос в том, насколько действуют правовые принципы. С правовой точки зрения, если уж мы приняли условия Совета Европы и, как все, отделили тюрьму от следствия, то мы должны этого придерживаться. Нужно довести до конца реформу по отделению следствия от тюрьмы. Запретить законодательно воздействие следователя, в частности, на врачей. То, что на тюремных медиков влияют, – это очевидно. Но они же и на гражданских оказывают давление! Всюду чувствуют себя хозяевами. Их надо поставить в рамки.
– Если они давят даже на гражданских врачей, что изменит вывод тюремных медчастей из-под контроля ФСИН? Следователи утратят свою власть там?
– Конечно. В документах четко сказано, что врач должен согласовывать свои действия с оперативными работниками. Даже работники ФСИН, когда их спрашивают, кто главный человек в тюрьме – воспитатель или оперативник, отвечают: конечно, оперативник. Вот что страшно. Сейчас судят по делу Магнитского его врача Литвинову. Она нам пыталась рассказывать, как добивалась перевода Сергея в больницу. Когда мы спросили, перед кем она добивалась, ее увели. Так что важнейшее требование сейчас – медицина должна быть независимой и гражданской.
– Часто поднимается вопрос о выводе из-под контроля ФСИН детдомов при женских колониях. ФСИН готова?
– Тенденция, конечно, есть, но пока на уровне устранения совсем уж беспредела. Что касается детдомов, то это нонсенс. Мы проводили эксперимент в Мордовии: в женской колонии №2 заключенные живут вместе с детьми. С точки зрения исправления преступника это самый лучший вариант. Не надо таскать ее на работу, не надо заставлять ее шить рукавицы. Мы, конечно, должны иметь в виду, что там не те женщины, о которых Некрасов писал. И не лучшие матери. Ну так помогите им стать хорошими матерями! Если они будут хорошими матерями, они будут и хорошими гражданами.
– Можно в ближайшие годы ожидать сокращения сферы влияния ФСИН?
– Разговоры об этом, конечно, есть. Большой прогресс, что ФСИН идет на диалог и согласна передать ряд управлений другим ведомствам. Минздрав сейчас не готов взять себе в подчинение тюрьмы – хорошо, пусть контроль осуществляют департаменты здравоохранения, то есть гражданские структуры. Главное, что ФСИН в ходе совместной работы согласилась, что здесь необходима реформа. Сейчас, кстати, в двух регионах проводится эксперимент – тюремные врачи подчинены не начальнику изолятора, а напрямую директору ФСИН. Это, конечно, мало что решает, но прогресс есть.
Маргарита Алехина, "Новые Известия"