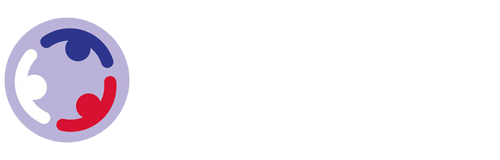А жертвой — стыдно
Когда в прошлом году Президента РФ попросили сделать гуманный шаг в честь 70-летия Великой Победы — объявить амнистию, он заметил: «Поймут ли нас жертвы преступлений? Как они будут относиться к нашей политике, если человек совершил преступление, а уже завтра гуляет по улице?!» Амнистия проведена. Ее результаты потрясли общественность. Фактически не отбыв ни дня в колонии-поселении, по амнистии освободилась госпожа Шавенкова, сбившая двух сестер в Иркутске. К сожалению, не она одна. Почему так вышло? Почему вообще сегодня жертвы преступлений зачастую от государства получают меньше помощи, чем преступники? И сможет ли изменить это новая доктрина в области уголовного права, работу над которой ведет Совет Федерации РФ?
Об этом — наш разговор с доверенным лицом Президента РФ, руководителем Общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве и правозащитного движения «Сопротивление» Ольгой КОСТИНОЙ.
— Ольга, зачем нам вообще новая доктрина? Разве у нас уже не все предельно ясно и четко? Есть преступник, есть жертва, есть УК. Чего не хватает?
— В одном из последних интервью у известного автора детективов Аркадия Вайнера спросили: «Вот вы сами работали в милиции, наверное, помните всех преступников, которых задерживали?» Он ответил: «Я помню каждую жертву. Я не мог есть, спать, я не мог найти себе места, я представлял себе, что пережил этот человек и что он переживает сейчас, пока не пойман преступник». Нам необходима внятная уголовная политика, нацеленная в том числе на возврат к этому пониманию.
— Пониманию того, что надо ловить преступника? Разве это не очевидная истина?
— Необходимо понимание важности роли потерпевшего в расследовании преступлений. Понимание того, что полиция должна не просто ловить преступника, но и помогать жертве.
«Было время, когда при виде убегающего преступника, который ранил гражданина, мы сначала бросались за преступником, а потом уже помогали потерпевшему. Так было нужно: в этом была горькая необходимость. Теперь не те дни стоят. Наши успехи диктуют другое: сначала помоги потерпевшему, потом настигай преступника. Он никуда не уйдет, а человек, потерпевший, может погибнуть…» Знаете, что я процитировала?
— Увы, нет.
— Отрывок из книги «Сержант милиции» от 1957 года… Возможно, стоит поискать ответы на сегодняшние вызовы в собственной истории.
Другой момент — во всем мире преступления против личности считаются самыми опасными, и именно к ним особое внимание. А у нас…
— А что у нас?
— Вот смотрите. Тяжких преступлений против личности ежегодно совершается около 2 млн. При этом наказание в местах лишения свободы отбывают, по последним данным, около 700 тыс. человек. Причем за все виды правонарушений. Возникает вопрос: «Кто-нибудь когда-нибудь сопоставлял количество убитых в России с количеством отбывающих наказание за эти убийства?» А надо бы.
— При этом тюрьмы забиты осужденными по 159-й статье (мошенничество).
— Российские законы устроены так, что за изнасилование, убийство можно получить условный срок, а за рядовое мошенничество — отправиться за решетку на 6 лет. Если бы мы избирали наказание исходя из страданий жертвы, мы бы имели другую шкалу наказания. И кстати, во многих странах за преступления на почве алчности предусмотрена конфискация имущества без лишения свободы. Наказание разорением и потеря репутации. И все. Зачем сажать в тюрьму, если преступник не причинил вреда здоровью? Пусть он просто заплатит сполна.
— Подождите, вы предлагаете совсем не сажать за кражи, хищения?
— Все зависит от последствий. Если это привело к гибели людей, как в «Хромой лошади» (там ведь тоже все произошло на почве жадности), то сажать обязательно.
И тоже с полной конфискацией. Все деньги — жертвам. О какой гуманизации можно говорить, если мы избитым, покалеченным в качестве компенсации в лучшем случае предлагаем только степень расправы над преступником?!
В поисках имущества «Хромой лошади»
— С компенсацией сегодня действительно сложно…
— Я недавно разговаривала с руководителем службы судебных приставов Артуром Парфенчиковым. Он сказал, что только в начале года получил исполнительное производство по «Хромой лошади». 5 лет прошло! За это время можно спрятать все имущество — переписать на родственников, продать, вывести на заграничные счета… Конечно, Артур Олегович — «подвижник», он будет искать, пока что-нибудь найдет. Но ведь эта ситуация типичная. Пока жертве объяснят, что у нее есть право подать гражданский иск в составе уголовного, пока она это сделает… у виновного уже и брать нечего. В других странах на имущество подозреваемого сразу же накладывается временное ограничение. Следственный комитет говорит, что такая возможность у следователей есть и сейчас. Мол, они о ней знают и готовы ее применять. Но мы понимаем, что в нашей стране если чиновник не обязан, то он этого, скорее всего, не сделает. Так что настаиваем именно на закреплении обязанности законодательно. Соответствующий документ уже подготовили.
— В нем будут прописаны конкретные суммы?
— Нет, в этом не будут. Но сегодня, как мы знаем, государство компенсирует ущерб только в случае террористических актов и больших катастроф. Миллион рублей семье погибшего, дальше — в зависимости от степени ущерба — разные суммы. Справедливо распространить подобную практику на всех жертв тяжких и особо тяжких преступлений.
Создать эффективный компенсационный механизм крайне непросто. Мировые подходы разные. Где-то первичную компенсацию выплачивает само государство, а потом взимает с преступника в специальный государственный фонд. Туда же идут средства, собранные от реализации конфискованного имущества и различные штрафные сборы. У представителей других стран мы спрашиваем: «Где вы берете деньги на программы возмещения?» Нам говорят: «Как где, а конфискат, арест имущества?» В России кто-нибудь знает, как реализуется конфискат? Мы следим за громкими процессами, видим преступников, владеющих дворцами, островами, яхтами. Вроде бы на все это накладывается арест. Но что это дает с точки зрения компенсации ущерба пострадавшему? Ничего.
— А можно ли составить шкалу по возмещению ущерба?
— Да. И кстати, в Европе она давно существует. Только не надо лицемерных заявлений о том, что жизнь человека бесценна, — мы ведь рассуждаем с социальной, а не моральной точки зрения. В профессиональных кругах дискуссии об этом уже ведутся и поводы появляются. Причем не только негативные. В Санкт-Петербурге осенью 2014 года суд принял революционное для нашего государства решение о выплате 15 млн рублей компенсации Ирине Разиной, потерявшей ребенка в результате врачебной ошибки.
Экономисты, анализируя работу судов в этом отношении, признают, что суммы компенсаций за моральный вред в настоящее время радикально занижены, при этом государство фактически самоустранилось в установлении судам хоть каких-то нормальных, обоснованных ориентиров. Может быть, когда начнутся компенсации за смерть и за увечья из бюджета, государство задумается о стоимости человеческой жизни и будет совсем по-другому спрашивать с правоохранителей?
«Быть жертвой — стыдно»
— Но если государство просто «откупится» от пострадавших — это ведь тоже не выход.
— Согласна. Потому мы совместно с профессиональными юридическими кругами начинаем подготовку второго блока поправок не только в законы, но и в ведомственные регламенты, чтобы обеспечить правовую, социальную и медицинскую помощь пострадавшим от преступлений. Сегодня в российском обществе нет понимания, что длительный стресс и психологическая травма, полученная жертвой в результате преступления, в случае неоказания своевременной помощи, может привести в дальнейшем к тяжелым заболеваниям. Вплоть до онкологии. Необходим предметный разговор с социальными ведомствами, в первую очередь Минздравом.
— Предыдущий закон о расширении прав потерпевших создавался более 5 лет. Как скоро удастся реализовать новую инициативу?
— Эта работа намного сложнее, потому что затрагивает вопросы, связанные с социальной политикой и финансами. Но затягивать разрешение столь важных для качества правосудия задач еще на годы неразумно. В этой ситуации мы будем обращаться за помощью к президенту. Реализация предыдущего закона начиналась с заседания Совета безопасности России. Возможно, и сейчас другого пути нет. Я абсолютно убеждена, что защита жертв преступлений должна курироваться Президентом РФ.
— Что еще предполагается поменять?
— Мало принять закон. Надо, чтобы он заработал и чтобы граждане знали о своих правах. Необходима выделенная надзорная функция в прокуратуре. Это принципиально повышает качество правоприменения. Если говорить о Минюсте, то в мировой практике в его структуру входит не только ФСИН и ФССП, но и служба, которая занимается правами жертв. Кроме того, необходимо внедрять в профильные юридические вузы учебные пособия, не только разъясняющие права потерпевших, но и механизм реализации их прав.
Но самое сложное — изменить информационный фон. Посмотрите наши ток-шоу: все посвящено преступнику. Все выясняют, что его, «бедного», довело до такого — семья, школа, страна, а может, сам потерпевший?! Эта психология присуща обществу. Во всем мире ничего не оправдывает преступления, разве что аффект или самооборона. У нас быть преступником пикантно. И все должны ему помогать, и все должны заниматься его будущим.
— Но преступник несет самое страшное наказание — лишение свободы.
— Самое страшное в отечественном наказании — его фактическая бессмысленность. Изоляция преступника без ресоциализации, без работы, направленной на сознание содеянного, без раскаяния не снижает криминального фона. Как следствие — за последние 5 лет количество рецидивистов в местах лишения свободы возросло с одной трети до половины от общего числа осужденных. Но все-таки к правам нарушителей закона всегда пристальное внимание и прессы, и правозащитных организаций, и уполномоченных по правам человека и Совета по правам человека при Президенте РФ. Не менее заметна и работа ОНК. А что есть у потерпевшего? Что происходит вокруг его судьбы? За рубежом каждому, кто пришел в полицейский участок, дают буклеты с адресами и телефонами служб психологической, социальной поддержки, с советами. В их распоряжении огромная зонтичная сеть неправительственных организаций, финансируемых государственными грантами. У нас тоже был случай, когда полицейский приехал на кражу и привез потерпевшему буклет. Угадайте, что в нем было?
— И что?
— Реклама охранной сигнализации!
Когда в американской брошюре мы прочитали: «Пожалуйста, сообщите окружному судье время и день, когда вам удобно подойти и дать показания», чуть не обрыдались. У нас следователи вызовут, когда им удобно, и ты еще можешь провести под дверью целый день. А кто гарантирует, что с тобой будут вежливо разговаривать? У нас впору говорить о презумпции «невиновности» для жертвы преступления.
— Средняя цифра потерпевших в год — 11 миллионов. Но в полицию обращаются меньше половины. Потому что не верят в правосудие?
— Во-первых, увы, да. Во-вторых, потому что в России быть жертвой стыдно. Никто не хочет рассказывать, что его обокрали, обидели. У нас принято считать, что ты лузер, раз такое случилось. «Сам лох». Плохо дверь закрыл, не предусмотрел. Люди осудят, а еще хуже — позлорадствуют.
А еще многие потерпевшие не обращаются в полицию, потому что им кажется — преступление мелкое. При этом они не думают, что в этом случае у преступника будет расти аппетит, он почувствует свою безнаказанность и в следующий раз не просто украдет, но и нападет.
— А как много потерпевших считают, что своим поведением сами спровоцировали то, что произошло?
— По опросам правоохранительных органов, от 11 до 15 процентов. Еще определенная категория граждан боится мести. Но больше всего люди боятся мытарств на следствии.
— Мытарств боятся и свидетели. Но ведь у нас есть закон о госзащите…
— Мой знакомый оказался свидетелем: на его руках умер расстрелянный преступниками человек. Знакомый, казавшийся мне до этого в меру циничным, с крепкими нервами, провалился в страшную депрессию. В голове у него все время крутилось: «Правильно ли я делал? То ли я говорил? Я спрашивал, как выглядят преступники, а может, надо было спросить — что семье передать?» Никто из нас не готов к такой ситуации. К этому нельзя подготовиться. Но ее последствия можно минимизировать, если принять меры. А для этого нужно всего лишь, чтобы к свидетелю относились с уважением, даже почтением, следователи. Чтобы они показывали ему свою поддержку. И важно, чтобы с каждым свидетелем пообщался психолог.
Травмированному человеку очень сложно. Его мир рушится. Есть целая цепочка состояний, которую проходит человек, пострадавший от преступления или ставший свидетелем. Она похожа на ту, что проходит пациент, которому объявили о смертельной болезни. Сначала шоковая стадия (горе, слезы, отчаяние), потом чувство «собственной вины» («я сам виноват», «почему меня, никого другого?»), потом стадия озлобленности и желания преследовать.
— Не все потерпевшие хотят мести. Многие мечтают, как бы поскорее примириться и забыть обо всем. Почему это редко получается?
— Вот еще пример. Пришла на прием к нашим юристам бабушка. Она живет вдвоем с внучкой. И вот поругались они сильно, и пенсионерка в сердцах пошла и написала на нее заявление, дескать, та украла у нее цепочку. Полиция заявление приняла. Через сутки «заявительница» остыла, пришла в себя, и снова в отделение — не было никакой краденой цепочки, я сама ей ее дала, верните заявление. «Э нет, — сказали ей. — Если так, то на тебя возбуждаем дело за ложный донос». И она сидит у нас и плачет: «Что мне делать? Либо я сажусь, либо внучка…» А ведь ничего не стоило дело прекратить за примирением сторон. Несмотря на принятые программные документы, у нас нет закона о медиации — системы, когда государство в случае нетяжких преступлений обеспечивает возможность примирения сторон. Но здесь нужно четко дифференцировать тяжесть преступления и не допускать возможности сговора между преступником и потерпевшим.
— Увеличился ли процент тех, кто вершит самосуд?
— Точных данных в процентном соотношении у меня нет. Не уверена, что такая статистика вообще ведется. Однако, по оценкам различных экспертных групп, свыше 10% тюремного населения составляют жертвы преступлений, которые, не получив справедливого правосудия, попытались совершить его сами. Вообще, чтобы минимизировать подобные случаи, кое-что уже сделано. Сегодня потерпевший не только имеет возможность получать информацию о ходе следствия, но и, например, узнавать об освобождении преступника, в том числе по УДО. Помню, когда мы добивались этой возможности, МВД не согласовывало поправку. Нам тогда пришел от них потрясающий ответ — мол, они против, потому что жертва может отомстить! Во всем мире опасаются, как бы преступник не отомстил, а у нас еще год назад было наоборот. Кажется пустяк, но вот вам еще пример из нашей практики. В маленьком городке женщина увидела на улице освободившегося по УДО убийцу своего сына. Срок ему дали приличный, а о сокращении она не знала. Решила, что сбежал, бросилась домой, схватила ружье мужа и…
— Что делать, когда тяжесть и жестокость преступления не допускает и мысли о примирении и прощения?
— Один из самых сложных вопросов для каждой жертвы — вопрос преодоления случившейся несправедливости. Ответ на него каждый вынужден искать самостоятельно. Несколько лет назад вместе с Синодальным отделом Московского патриархата по взаимодействию с правоохранительными учреждениями мы попытались найти для потерпевших слова духовной поддержки. В короткой проповеди, опубликованной отцом Дмитрием Смирновым, есть следующие слова: «…невинная жертва преступника испытывает не только физические, но жесточайшие духовные мучения. Страх, гнев, отчаяние, словно ад, перемещается в человека. Ненависть к преступнику, мечта о мщении не просто разъедают душу, но и уничтожают физическое и психическое здоровье. Это и есть преступная победа, отложенная казнь, которую жертва, лишенная поддержки, завершает самостоятельно… Пройти через испытания, выстоять, не потерять веру в Бога и людей, не позволить себе встать на путь мести и самосуда, чтобы не уравнять себя с преступником, — и есть та самая жертва, которую приносит потерпевший во имя милосердия и правосудия».
Ева Меркачева, МК