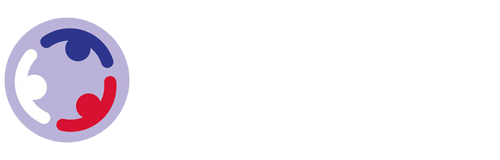Генри Резник, Президент Адвокатской палаты Москвы, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ
Введение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ института установления объективной истины с возложением обязанности её отыскания на суд означает возврат российского уголовного процесса из состязательной формы к неоинквизиционной (розыскной).
Поскольку я уже высказал своё отношение в числе других отечественных ученых-процессуалистов к опубликованному законопроекту Следственного Комитета РФ, полагаю целесообразным сосредоточиться на характеристике и итогах средневековой и советской практики судебного розыска.
Во все времена, при любом политическом строе власть и люди стремились узнать правду о совершенных преступлениях и преступниках. Правда эта отыскивалась в соответствии с господствующими в обществе идеями, представлениями и верованиями. Обвинительный процесс раннего средневековья вверял судьбу судебного спора всецело воле божьей, проявлявшейся, как считалось, в ордалиях, поединках и иных испытаниях. Материальная истина, добываемая с помощью следов, которые преступление оставило в объективной обстановке и сознании людей — продукт идеологии позднего феодализма, рецепции инквизицией римского права и теории формальных доказательств.
Средневековые глоссаторы абсолютизировали истину как задачу уголовного судопроизводства, едва ли не обожествляли её. Разработка системы доказательств, их добывания, проверки и оценки в средневековых кодексах — Уголовно-судебном уложении Карла V «Каролина» (1533 г.) и «Кратком изображении процессов», изданном императором Петром I при Воинском уставе (1716 г.) — в России средневековье затянулось — впечатляет. Многие нормы «Каролины», подробно излагающие процесс доказывания самых разных преступлений — различных видов убийств, краж, разбойных нападений, поджогов, подлогов и др., и указания по извлечению фактов из разнообразных источников, позже положили начало криминалистической науке, вошли в книгу её основоположника Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей» (1892), да и сейчас не сильно отличаются от нынешних методических рекомендаций по расследованию преступлений. Сие не случайно, поскольку в основе подавляющего большинства положений теории формальных доказательств лежали правильные наблюдения за поведением людей, те же самые фактические презумпции, которые и теперь служат основанием для выводов от одной типичной ситуации к другой.
Глоссаторы предъявляли к доказательствам весьма строгие требования, «дабы предохранить от непроизвольного уклонения от истины» [1, с. 161]. Доказательства делились на совершенные: сознание обвиняемого — «царица доказательств» и согласные показания двух незаинтересованных (добрых) свидетелей и несовершенные: показания одного свидетеля («полудоказательство») и улики.
Путь к нахождению истины, по убеждениям того времени, лежал через признание обвиняемого. А универсальным средством получения такого признания считалась пытка. Следует подчеркнуть, что в отличие от сталинских репрессий пытка служила раскрытию преступлений, а не фабрикации уголовных дел. Возведение сознания обвиняемого в ранг «царицы доказательств» основывалось на совершенно правильном наблюдении, что люди вообще не склонны себя оговаривать. Но почему допрос под пыткой был обязателен по каждому уголовному делу? Почему никакая совокупность улик и даже согласные показания двух добрых свидетелей, согласно «Каролине», не могли повлечь вынесение обвинительного приговора, а лишь служили основанием для допроса под пыткой? [2, с. 44-45] Разгадка, думается, в том, что ученые-глоссаторы — авторы «Каролины», осознавали несовершенство средств познания в уголовном судопроизводстве, и стремились полностью исключить судебную ошибку, получив под пыткой не голое признание, а выявив виновную осведомленность подозреваемого.
— «Надлежит также заметить, что никто не должен быть приговорен к какому-либо уголовному наказанию на основании одних только доказательств, улик, признаков истины или подозрений. На сем основании может быть только применен допрос над пыткой при наличии достаточных доказательств.
Окончательное осуждение кого-либо к уголовному наказанию должно происходить на основании его собственного признания или свидетельства (как будет указано в ином месте сего уложения), но не на основании предположений и доказательств» («Каролина», XXII)
— «Для того, чтобы улики были признаны достаточными для применения допроса под пыткой, они должны быть доказаны двумя добрыми свидетелями, как будет предписано в иных статьях о достаточном доказательстве» («Каролина», XXIII) [2, с. 45]
— «Того, кто сознается в преступлении, надлежит допрашивать о таких обстоятельствах дела и признаках истины, о которых невиновный не мог бы ничего знать или сказать; при этом надлежит записать, насколько отчетливо рассказывает обвиняемый о таких обстоятельствах;
Если допрашиваемый дал показания о том, каким образом и при каких обстоятельствах было совершено преступление, как было частично указано выше, и именно эти обстоятельства будут обнаружены, то тогда можно вполне заключить, что он действительно совершил признанное им преступление, в особенности, если он рассказал о таких обстоятельствах, случившихся при этом событии, которые совершенно не могли быть известны невиновному («Каролина», LIII-LIV). [2, с. 60]
От признания под пыткой зависела так называемая полнота открытия истины, определявшая судьбу осужденного. Так, в Уставной книге Разбойного приказа царя Ивана IV указывалось: «А будет на себя, с пытки, в разбое учнет обвиняемый говорить, и его казнить смертью; а не учнет говорить… и его посадить в тюрьму, докуды по нем поруки не будет; людем, которые на себя в разбое с пыток не говорили, и тем людем сидети в тюрьме до смерти, а смертью их не казнити. В «Кратком изображении процессов» также предписывалось без признания вины не подвергать преступника смертной казни. [1, с. 162]
Расследование не исключало оправдание обвиняемого, но таковое могло произойти лишь в случае положительного доказывания невиновности, например, установления алиби.
Последовательное проведение идеи материальной истины препятствовало вынесению оправдательного приговора за недоказанностью виновности. С точки зрения закономерностей чистого исследования недоказанный факт не приравнивается к факту несуществующему. И хотя средневековые кодексы украшались римской максимой «лучше десять виновных освободить, нежели одного невинного осудить», принцип «истина, во что бы то ни стало» торжествовал над свободой и правами личности, которая не рассматривалась как самостоятельная ценность. Поэтому в полном согласии с результатами познавательного процесса выносилось три приговора: 1) виновен; 2) невиновен; 3) оставлен в подозрении.
Так, «Краткое изображение процессов», воздав должное упомянутому выше афоризму римлян, определяло: «если бы, несмотря на отрицание подсудимого, могли явиться могущие дать повод к подозрению в учинении преступления какие-либо обстоятельства, впрочем, недостаточные однако же к решительному обвинению, тогда, хотя и следует подсудимого освободить, взяв с него полное число порук, но от преступления весьма не уволить; понеже временем могут новые явиться подозрения». [1, с. 163] Приговоры об оставлении в подозрении были весьма многочисленны. В итоге многие сотни тысяч отпущенных на волю людей до конца жизни носили клеймо неразоблаченного преступника. Миллионы казненных оставляю в стороне, ибо смертная казнь была в средние века не просто обычным, а основным наказанием.
Буржуазные революции, на знамени которых были начертаны права и свободы человека, демократия, разделение властей, изменили тип уголовного судопроизводства: вместо розыска следственно-состязательная процедура, системы формальных доказательств — оценка доказательств по внутреннему убеждению, оставления в подозрении — толкование сомнений в пользу обвиняемого, пытки — уважение достоинства личности, презумпция невиновности, право на защиту.
Среди теоретиков возобладал более трезвый, реалистичный взгляд на процессуальную истину как практическую (содержательную, моральную) достоверность. Которая не вмещается в рамки математики и формальной логики, вырабатывается из правдоподобностей, и не способна полностью исключить судебную ошибку.
В советском государстве к власти пришла коммунистическая утопия. Либерально-демократические ценности были объявлены ширмой для прикрытия власти кровопийц-капиталистов. Презумпция невиновности, состязательность, суд присяжных третировались, как обветшалые догмы буржуазного права и были изгнаны из советского законодательства. Считалось, что всесильные идеи марксизма-ленинизма в сочетании с подавлением врагов позволят в кратчайшие сроки совершить рывок к светлому будущему, избавить человечество от вековых невзгод, создать новый тип личности — советского человека: «нет таких крепостей, которые не могут взять большевики».
«Мы знали до нас так мечтали другие // Но всё нам казалось, что мы не такие // Что мы не подвластны ни року, ни быту // И тайные карты нам веком открыты. /Н. Коржавин/.
Фанатическая вера в возможность построения рая на земле, свойственная первому призыву большевиков, а затем ставшая официальной государственной идеологией, включала в себя как иллюзию постепенного отмирания преступности при коммунизме, так и явное преувеличение возможностей государства в борьбе с ней. Печатью химеры отмечена еще дореволюционная статья В.И. Ленина «Бей, но не до смерти», в которой, как считалось, сформулирована ленинская теория неотвратимости наказания. Ленин писал в ней: «Давно уже сказано, что предупредительное значение наказания обусловливается вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью. Важно не то, чтобы за преступление было назначено тяжкое наказание, а то, чтобы ни один случай преступления не проходил нераскрытым».
Но «давно уже сказано» было иначе: «Важно, чтобы ни одно преступление, сделавшееся известным, не осталось безнаказанным, но бесполезно отыскивать того, чьё преступление скрыто во мраке». [3, с. 38]
Мы видим, что основатель советского государства подправил классика права. У Беккариа принцип неотвратимости наказания конкретизирует общеправовой принцип равенства всех перед законом, а у Ленина означает ликвидацию латентной преступности.
Ленинский тезис об отмирании преступности при коммунизме был воплощён в Программе КПСС (1961 г.): преступность в СССР согласно партийным директивам, должна была исчезнуть через 20 лет, к 1980 г. Получилось «малость» иначе: исчез СССР.
Идеологические шоры, в которых вынуждена была развиваться советская юридическая наука, сказались и на теории процессуальной истины. Конструкция объективной (материальной) истины «по-советски» неразрывно связана с именем выдающегося отечественного ученого-юриста Михаила Соломоновича Строговича — человека большого мужества, заговорившего о значении для правосудия принципов презумпции невиновности и состязательности, отсутствовавших k